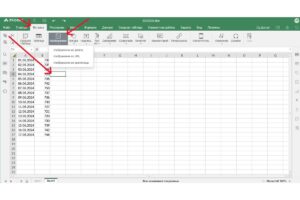Формулировка закона о неуважении к власти настолько резиновая, что параллели можно растянуть до эпохи Екатерины Великой; советский режим тоже придется потревожить.

Сергей Бобылев/Коммерсантъ
Российское общество не знало жизни без запретов, в том или ином виде ограничения существовали в разные периоды — напоминает специалист в области истории цензуры в России, профессор СПбГУ Геннадий Жирков. В одобренных Совфедом законопроектах о фейках и уважении к власти доктор филологических наук не видел бы крамолы, если бы не два «но»: решение о блокировке сетевых ресурсов должен принимать суд, а критерии непочтительности необходимо четко прописать. В противном случае может наступить такой век, что от его блеска поморщилась бы императрица Екатерина II. Регулятором же может и должно выступить то самое общество.
— Геннадий Васильевич, в истории России были периоды без цензуры?
– Нет, не было. Всегда существуют тайны, которые закрыты для общего потребления. Например, военные, государственные, дипломатические, медицинские. Это и обуславливает существование «цензурного режима». И «политическая цензура» существует в любом обществе. Но существует и Конституция, и по ней цензура ограничивается. К слову, это ограничение имеет древний посыл. Еще Екатерина Великая со своими бюрократами выработала три момента. Критика власти, обличение церкви и гражданство человека – его внутренний мир – три табу, которые появились в течение ее царствования. Был принят соответствующий указ, а потом это переходило из законодательства в законодательство.
— Когда был самый тяжелый «цензурный» период в России?
– В литературе обычно оплевывают период Николая I. Там даже включается термин «террор». На самом деле это не так. Существовал Александр Сергеевич Пушкин. А еще хуже – революционер Белинский. Это период рассвета нашей литературы. Но есть один момент, связанный с эволюцией правления. Монарх передает функции управления соответствующим лицам. В данном случае бюрократии. Вот эпоха Николая I очень характерна в этом смысле. Там монарх все определял. Он мог уважаемого человека, литератора, например Сергея Аксакова, посадить в карцер за цензорскую провинность. Эта форма управления существует до сих пор. Сейчас у нас императора нет, но есть один главный стержень.
— Можно сказать, что до конца царского режима в России ситуация с цензурой усугублялась?
– Нет. Постепенно развивается общество, промышленность, потребности, и в конечном итоге начинается то, что называется «капитализм», что представляет из себя шаг к демократизации общества. Это влияет на то, что растет диапазон в информационном процессе в журналистике. В начале XX века появилась массовая печать. После первой русской революции 1905 года стало трудно сдерживать информационный процесс. Цензура, без сомнения, ослабла. И в октябре 1917 года большевики открыто заявляли, что предоставляют свободу слова для большинства, для народа. Тем не менее сразу же был создан Главлит – основное учреждение советской цензуры. Да, по форме оно полностью копировало то, что было до революции. Но цензурный процесс ужесточался, в связи с бурным восстанием народных масс. Пытались вобрать эту массу в управление.
— Советская цензура сильнее, чем царская?
– Это невозможно сопоставить. Более репрессивный характер, быть может. Но это уже другое время и другое общество. Другое дело, когда началась диктатура Сталина, то здесь, конечно, очень жесткий был режим. Но, опять же, мы имели чуть ли не самую огромную печать в стране, радио развивалось на полную катушку. Это все взаимосвязано.
— Что происходит обычно в России, когда цензура ослабевает? Есть четкий критерий того, что «здесь цензуры нет»?
– Это как посмотреть. Вот сейчас мы переживаем революционную эпоху. В информационном пространстве – без всякого сомнения. Совсем другие носители, но общество под них еще не адаптировано. И 20-30 лет для этого – это ерунда. Сейчас вопросы цензуры стоят жестко не потому, что выборы президента или еще что-то такое. А просто этот механизм управления «спустил вожжи». С самого начала перестройки. Когда была самая свободная журналистика. Можно было почти все. Это был бум свободы, опять же, связанный со свободой рынка.
— Очень большие свободы – очень большие риски для государства?
– Да, совершенно верно. Вероятно, существует теория равных моментов в становлении общества, но вот мы никак ее не можем обнаружить. Но вся борьба за свободу слова – необходима.
— Как же? Мы же договорились, что это опасно?
– Ну и что, что опасно. Все равно бороться надо. Это механизм существования цензурного режима. Регулирования уровня гласности в обществе.
— Вы сказали, что цензура – не всегда зло. Многие считают по-другому.
– Момент становления цензуры был тесно связан с Министерством народного просвещения. До 1863 года, когда начались великие реформы, появились суды, и сразу почувствовали, что что-то не то. И сразу передали управление цензурой в Министерство внутренних дел. То есть большую роль стала играть карательная сторона. А до этого считалась – просветительная. Кто были цензоры? Многие писатели. Ваня Гончаров, мой любимый Федя Тютчев. Он был председателем комитета иностранной цензуры. Это люди-просветители, а не преследователи.
— Сегодня есть такая конструкция? Когда этот вопрос не только в руках людей в погонах.
– Это вопрос сложный. Ведь в целом контент нашей журналистики сугубо негативный. А вся история цензуры была направлена на то, чтобы в обществе была представлена позитивная информация.
— «Больше позитива» – это говорил президент несколько месяцев назад.
– Президент – это уже политические цели. Я как историк говорю. Ну, так он прав в этом. Потому что есть кризис управления, вожжи отпущены. И это не только у нас. В Соединенных Штатах, что там делается? Трамп и журналистика – это же кризисное состояние. Управление не может найти связи с журналистикой, которые приводили бы к равной подаче информации – и минусы, и плюсы.
— То есть четвертая власть никак не может быть выше первой, на ваш взгляд?
– Я не считаю, что журналистика обладает властью вообще. Это есть объективный информационный процесс, более широкий, в разных ипостасях. Например, как средство массового общения. «Поле чудес» несет какую-то информацию? Никакой. Это средство общения. Сейчас этот процесс очень сильно развит. Игра, интерактивное телевидение, шоу – все это близко. И я даже поспорил бы, что эти дискуссии несут какие-то знания. Это фон. Я бы еще и сказал, что выборная кампания – это такая политическая игра, в ходе которой есть кукловоды, какое-то участие народа и так далее.
— Цензура в мирное и военное время – разные вещи. На что похожа сейчас цензура? В каком времени мы живем?
– Тут тоже произошли очень большие изменения. Вместо той войны, которая была, сейчас основной является информационная. То, что мы живем под угрозой полного уничтожения существования цивилизации, приводит к тому, что везде идут локальные войны. Это рынок. Борьба за нефть, зоны влияния и так далее.
— Можно сказать, что информационная война для цензуры стала сопоставима с войной реальной?
– Да, конечно.
— Получается, что вся цензура сегодня – это цензура военного времени?
– Нет! Все-таки нет. Хотя вопрос неизученный – пожалуйста, изучайте.
— Можно сказать, что у российского общества есть запрос на цензуру?
– Если говорить о потребителе как таковом, то есть. Также есть слабость официальной журналистики.
— Слабость – качество профессионализма?
– Официальная журналистика брошена. Разве официальные печатные органы власти имеют какое-то влияние? Нет.
— Не потому ли, что хорошие журналисты просто не хотят работать на власть?
– У каждого есть право выбора. Но на протяжении всей истории до рыночного периода у нас всегда была официальная журналистика. Не понимаю, почему работать на государство неприемлемо? Вы же живёте в государстве? Вы против того, чтобы государство было нормальным?
— Государство – это орган управления и насилия. Трудности органа управления, которым не могут управлять люди, как единственный источник власти по Конституции, наверное, мало кого-то беспокоят.
– Не знаю. Государство – это то, где мы живём. Не принимаю иронии, когда журналист держит фигу в кармане. У нас сложилась ситуация, описанная Гоголем, когда унтер-офицерская вдова сама себя высекла. У нас, к сожалению, такая традиция. Сечь себя. Мы не дорожим своими ценностями. Мы их оплёвываем. Например, публицистику Льва Толстого многие оплёвывают. Ещё Ленин назвал его «жалкий хлюпик, юродствующий во Христе». А Толстой ведь был великим журналистом, хоть тогда это и называлось публицистика.
— Сегодня ситуация с цензурой в России у вас беспокойства не вызывает?
– Я считаю, что сейчас с цензурой в России нормальная ситуация, но требующая организационных усилий общества, связанных с распространением информации в Интернете. Фейки.
— Даже закон специальный приняли про фейки.
– И это хорошо. Нужен механизм выработки уровня гласности.
— Проблема в том, что принцип принятия решений о том, кого выключать, а кого можно оставить, непрозрачен и не контролируем обществом. Блокировки сетевых ресурсов по новому закону будут внесудебными.
– Постойте, суд ведь не устраняется из принятия решений этим законом, я надеюсь.
— Первоначальное решение будут принимать сотрудники органов исполнительной власти. Без суда.
– Тогда дальше всё зависит от того, как общество будет встречать такой закон. Общество молчит? Хотите, чтобы общество сразу закричало? У нас много других нерешённых проблем, поэтому общество и пребывает в таком состоянии. А суд из процедуры убирать нельзя. Суд должен быть.
— «Явное неуважение к власти» теперь будет стоить минимум 30 тысяч рублей. Вы понимаете, за что будут штрафовать на самом деле?
– Я могу сказать, что, на мой взгляд, это резиновая формулировка. Её можно растягивать куда нужно. Можно посмотреть, что у нас было в прошлом. Очень близко к этому мы уже были в XVIII веке при Екатерине. А ближе к нам – во времена СССР. За что страдала тогда интеллигенция? За то, что власть не любила. Необходимо установление нормального уровня гласности, в котором могут существовать и власть, и потребители. Но формулы для этого нет. В каждую конкретную эпоху своя формула. Александр II провёл реформы, проделал огромную работу, а его взяли и угробили. За это в том числе. Многие оказались недовольны. «Мало дал».
— Насколько цензурный режим сдерживается самим обществом? Может цензура спровоцировать людей на действие?
– Конечно, может. И в России тоже. Это естественно. Это быт. И Перестройка в 80-е – именно такой пример. Лично я получил возможность спокойно работать, читать, что хочу, исследовать, что хочу. Я тогда заново перестроил все курсы по истории журналистики. Я на тот момент заведовал кафедрой 25 лет. Это несравнимо с тем, что было до этого, когда был жёсткий партийный контроль.
— А мы не возвращаемся обратно в жёсткий «партийный» контроль?
– Пока не думаю, что возвращаемся к жёсткому контролю. Тем более партийному. У нас так и не было зрелого партийного движения никогда в истории. И сейчас нет. Пока нет позитива. Партийное поле у нас довольно искусственное. Ведь все наши партии никакого влияния в обществе не имеют.
— Слабость политических партий, размытость социальных институтов – питательная среда для усиления цензуры? Общество может сказать цензору «отстань» и добиться своего права быть самостоятельным и свободным?
– В наших условиях это трудно. И как раз революционные события в информационных процессах, Интернет как таковой, это демонстрируют. Мы говорим только про нашу страну. Но мир состоит не только из западной цивилизации и нас. Есть и Восток, который стал играть существенную роль. И это позитив с точки зрения управления. Сегодня наша страна ориентирована и на Восток. А там совершенно другое общество. У меня уже 30 студентов из Китая. И если здесь мы ищем цензуру, то там она просто есть. А в России есть духовная цензура. Она вечная. Если ты написал книгу, будучи в лоне церкви, ты должен получить разрешение на её публикацию от владыки.
— При этом сегодняшняя церковь и церковь дореволюционной России – это сильно разнящиеся по потенциалу силы.
– Ошибаетесь. Сегодня церковь по своей силе почти сопоставима с церковью в дореволюционной России. У них даже своя журналистика теперь есть. Явление для общества меня лично непривычное. В телеящике есть уже целые странные телеканалы. Говорят очень странные вещи. И это проблема очень крупная. Они никак не могут адаптироваться к обществу.
— Лишите молодёжь Интернета, она начнёт смотреть это странное религиозное ТВ или начнёт требовать отмены цензуры?
– Лишить молодёжь Интернета невозможно. Исключено. Пока нет таких механизмов.
— Группа писателей и журналистов прямо заявляет, что новые законодательные инициативы фактически вводят в России цензуру. Призывают общество легально сопротивляться. Это имеет смысл делать?
– Без сомнения. Это и есть механизм, о котором я говорю. Общество не может не иметь протестного характера. Но необходимо взаимодействие. И если взаимодействие между авторами этих инициатив и обществом есть, то, возможно, и выработается какая-то равнодействующая.
— Вы видите в своих студентах запрос на это взаимодействие, на отстаивание своих прав? Лично у меня ощущение, что обществу эта проблематика просто чужда.
– Мне кажется, так нельзя сказать. Если вы спросите у прохожих их отношение к запретам, они проявят свой интерес.
— Нынешние власти – качественные цензоры?
– Прямо скажу, мне современные цензоры незнакомы. В широком смысле цензуры. Ну вот есть министр культуры Мединский. Чисто бюрократический элемент, который преподносит обществу уроки о том, что неприемлемо с точки зрения власти.
— Вас цензурные моменты в РФ не беспокоят?
– Беспокоят, но не в связи с контролем общества. Я как профессор чувствую себя комфортно. Другое дело, что бюрократизация в обществе нарастает. Как это связано с цензурой, сказать трудно.
— Но бюрократия и цензура – родные сёстры. Рост одной прямо зависит от силы другой.
– Тоже верно. Думаю, что бюрократия в России – это тоже одна из форм контроля. Во всяком случае, за научными исследованиями (смеётся). А ваша обеспокоенность пассивностью общества естественна, поскольку вы постоянно в процессе. Я же смотрю со стороны. Но я вижу и позитивные моменты в этих процессах. Интернет нам дал доступ к материалам, о которых раньше мы могли только мечтать. Но я не поклонник Интернета. Он слишком много времени и сил забирает у человека. Залезешь туда, потом не вылезешь. Но соблазн велик.
Николай Нелюбин,
специально для «Фонтанки.ру»